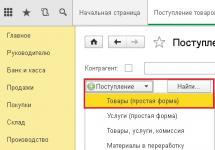Людмила Петрушевская
Время ночь
Мне позвонили, и женский голос сказал: - Извините за беспокойство, но тут после мамы, - она помолчала, - после мамы остались рукописи. Я думала, может, вы прочтете. Она была поэт. Конечно, я понимаю, вы заняты. Много работы? Понимаю. Ну тогда извините.
Через две недели пришла в конверте рукопись, пыльная папка со множеством исписанных листов, школьных тетрадей, даже бланков телеграмм. Подзаголовок «Записки на краю стола». Ни обратного адреса, ни фамилии.
Он не ведает, что в гостях нельзя жадно кидаться к подзеркальнику и цапать все, вазочки, статуэтки, флакончики и особенно коробочки с бижутерией. Нельзя за столом просить дать еще. Он, придя в чужой дом, шарит всюду, дитя голода, находит где-то на полу заехавший под кровать автомобильчик и считает, что это его находка, счастлив, прижимает к груди, сияет и сообщает хозяйке, что вот он что себе нашел, а где - заехал под кровать! А моя приятельница Маша, это ее внук закатил под кровать ее же подарок, американскую машинку, и забыл, она, Маша, по тревоге выкатывается из кухни, у ее внука Дениски и моего Тимочки дикий конфликт. Хорошая послевоенная квартира, мы пришли подзанять до пенсии, они все уже выплывали из кухни с маслеными ртами, облизываясь, и Маше пришлось вернуться ради нас на ту же кухню и раздумывать, что без ущерба нам дать. Значит так, Денис вырывает автомобильчик, но этот вцепился пальчиками в несчастную игрушку, а у Дениса этих автомобилей просто выставка, вереницы, ему девять лет, здоровая каланча. Я отрываю Тиму от Дениса с его машинкой, Тимочка озлоблен, но ведь нас сюда больше не пустят, Маша и так размышляла, увидев меня в дверной глазок! В результате веду его в ванную умываться ослабевшего от слез, истерика в чужом доме! Нас не любят поэтому, из-за Тимочки. Я-то веду себя как английская королева, ото всего отказываюсь, от чего ото всего: чай с сухариками и с сахаром! Я пью их чай только со своим принесенным хлебом, отщипываю из пакета невольно, ибо муки голода за чужим столом невыносимы, Тима же налег на сухарики и спрашивает, а можно с маслицем (на столе забыта масленка). «А тебе?» - спрашивает Маша, но мне важно накормить Тимофея: нет, спасибо, помажь потолще Тимочке, хочешь, Тима, еще? Ловлю косые взгляды Дениски, стоящего в дверях, не говоря уже об ушедшем на лестницу курить зяте Владимире и его жене Оксане, которая приходит тут же на кухню, прекрасно зная мою боль, и прямо при Тиме говорит (а сама прекрасно выглядит), говорит:
А что, тетя Аня (это я), ходит к вам Алена? Тимочка, твоя мама тебя навещает?
Что ты, Дунечка (это у нее детское прозвище), Дуняша, разве я тебе не говорила. Алена болеет, у нее постоянно грудница.
Грудница??? - (И чуть было не типа того, что от кого ж это у нее грудница, от чьего такого молока?)
И я быстро, прихватив несколько еще сухарей, хорошие сливочные сухари, веду вон из кухни Тиму смотреть телевизор в большую комнату, идем-идем, скоро «Спокойной ночи», хотя по меньшей мере осталось полчаса до этого.
Но она идет за нами и говорит, что можно заявить на работу Алены, что мать бросила ребенка на произвол судьбы. Это я, что ли, произвол судьбы? Интересно.
На какую работу, что ты, Оксаночка, она же сидит с грудным ребенком!
Наконец-то она спрашивает, это, что ли, от того, о котором Алена когда-то ей рассказывала по телефону, что не знала, что так бывает и что так не бывает, и она плачет, проснется и плачет от счастья? От того? Когда Алена просила взаймы на кооператив, но у нас не было, мы меняли машину и ремонт на даче? От этого? Да? Я отвечаю, что не в курсе.
Все эти вопросы задаются с целью, чтобы мы больше к ним не ходили. А ведь они дружили, Дуня и Алена, в детстве, мы отдыхали рядом в Прибалтике, я, молодая, загорелая, с мужем и детьми, и Маша с Дуней, причем Маша оправлялась после жестокой беготни за одним человеком, сделала от него аборт, а он остался с семьей, не отказавшись ни от чего, ни от манекенщицы Томика, ни от ленинградской Туси, они все были известны Маше, а я подлила масла в огонь: поскольку была знакома и с еще одной женщиной из ВГИКа, которая славна была широкими бедрами и тем, что потом вышла замуж, но ей на дом пришла повестка из кожно-венерологического диспансера, что она пропустила очередное вливание по поводу гонореи, и вот с этой-то женщиной он порывал из окна своей «Волги», а она, тогда еще студентка, бежала следом за машиной и плакала, тогда он из окна ей кинул конверт, а в конверте (она остановилась поднять) были доллары, но немного. Он был профессор по ленинской теме. А Маша осталась при Дуне, и мы с моим мужем ее развлекали, она томно ходила с нами в кабак, увешанный сетями, на станции Майори, и мы за нее платили, однова живем, несмотря на ее серьги с сапфирами. А она на мой пластмассовый браслетик простой современной формы 1 рубль 20 копеек чешский сказала: «Это кольцо для салфетки?» - «Да», - сказала я и надела его на руку.
А время прошло, я тут не говорю о том, как меня уволили, а говорю о том, что мы на разных уровнях были и будем с этой Машей, и вот ее зять Владимир сидит и смотрит телевизор, вот почему они так агрессивны каждый вечер, потому что сейчас у Дениски будет с отцом борьба за то, чтобы переключить на «Спокойной ночи». Мой же Тимочка видит эту передачу раз в год и говорит Владимиру: «Ну пожалуйста! Ну я вас умоляю!» - и складывает ручки и чуть ли не на колени становится, это он копирует меня, увы. Увы.
Владимир имеет нечто против Тимы, а Денис ему вообще надоел как собака, зять, скажу я вам по секрету, явно на исходе, уже тает, отсюда Оксанина ядовитость. Зять тоже аспирант по ленинской теме, эта тема липнет к данной семье, хотя сама Маша издает все что угодно, редактор редакции календарей, где и мне давала подзаработать томно и высокомерно, хотя это я ее выручила, быстро намарав статью о двухсотлетии Минского тракторного завода, но она мне выписала гонорар даже неожиданно маленький, видимо, я незаметно для себя выступила с кем-нибудь в соавторстве, с главным технологом завода, так у них полагается, потому что нужна компетентность. Ну а потом было так тяжело, что она мне сказала ближайшие пять лет там не появляться, была какая-то реплика, что какое же может быть двухсотлетие тракторного, в тысяча семьсот каком же году был выпущен (сошел с конвейера) первый русский трактор?
Что касается зятя Владимира, то в описываемый момент Владимир смотрит телевизор с красными ушами, на этот раз какой-то важный матч. Типичный анекдот! Денис плачет, разинул рот, сел на пол. Тимка лезет его выручать к телевизору и, неумелый, куда-то вслепую тычет пальцем, телевизор гаснет, зять вскакивает с воплем, но я тут как тут на все готовая, Владимир прется на кухню за женой и тещей, сам не пресек, слава Богу, спасибо, опомнился, не тронул брошенного ребенка. Но уже Денис отогнал всполошенного Тиму, включил что где надо, и уже они сидят, мирно смотрят мультфильм, причем Тима хохочет с особенным желанием.
Но не все так просто в этом мире, и Владимир настучал женщинам основательно, требуя крови и угрожая уходом (я так думаю!), и Маша входит с печалью на лице как человек, сделавший доброе дело и совершенно напрасно. За ней идет Владимир с физиономией гориллы. Хорошее мужское лицо, что-то от Чарльза Дарвина, но не в такой момент. Что-то низменное в нем проявлено, что-то презренное.
Дальше можно не смотреть этот кинофильм, они орут на Дениса, две бабы, а Тимочка что, он этих криков наслушался… Только начинает кривить рот. Нервный тик такой. Крича на Дениса, кричат, конечно, на нас. Сирота ты, сирота, вот такое лирическое отступление. Еще лучше было в одном доме, куда мы зашли с Тимой к очень далеким знакомым, нет телефона. Пришли, вошли, они сидят за столом. Тима: «Мама, я хочу тоже есть!» Ох, ох, долго гуляли, ребенок проголодался, идем домой, Тимочка, я только ведь спросить, нет ли весточки от Алены (семья ее бывшей сослуживицы, с которой они как будто перезваниваются). Бывшая сослуживица встает от стола как во сне, наливает нам по тарелке жирного мясного борща, ах, ох. Мы такого не ожидали. От Алены нет ничего. - Жива ли? - Не заходила, телефона дома нет, а на работу она не звонит. Да и на работе человек то туда, то сюда… То взносы собираю. То что. - Ах что вы, хлеба… Спасибо. Нет, второго мы не будем, я вижу, вы устали, с работы. Ну разве только Тимофейке. Тима, будешь мясо? Только ему, только ему (неожиданно я плачу, это моя слабость). Неожиданно же из-под кровати выметывается сука овчарки и кусает Тиму за локоть. Тима дико орет с полным мяса ртом. Отец семейства, тоже чем-то отдаленно напоминающий Чарльза Дарвина, вываливается из-за стола с криком и угрозами, конечно, делает вид, что в адрес собаки. Все, больше нам сюда дороги нет, этот дом я держала про большой запас, на совсем уже крайний случай. Теперь все, теперь в крайнем случае надо искать будет другие каналы.
Людмила Петрушевская давно является неотъемлемой частью русской литературы, встав в один ряд с другими отечественными классиками XX века. Ее ранние тексты запрещались к печати в Советском Союзе, но, к счастью, талант Петрушевской по достоинству оценили Роман Виктюк и Юрий Любимов, тогда еще совсем молодые, и с удовольствием начали ставить спектакли по ее пьесам. Залогом приятельских отношений с другой звездой отечественной культуры, с , стала работа над мультфильмом «Сказка сказок», для которого она написала сценарий. Долгие период тишины для писательницы закончилось только в 1990-х годах, когда ее стали по-настоящему свободно (и много) печатать: литературная слава Петрушевскую настигла мгновенно.
«Время ночь»
Если вы по-прежнему думаете, что « », то спешим вас разочаровать: есть истории пострашнее, и множество из них написала Людмила Петрушевская. В ее библиографии немного крупных произведений, так что повесть «Время ночь» стоит особняком: в ней собраны все темы, которые писательница затрагивает в других своих текстах. Конфликт матери и дочери, бедность, бытовая неустроенность, любовь-ненависть между близкими людьми - Людмила Стефановна является мастером «шоковой прозы», как часто про нее пишут критики, и это правда.
Она никогда не стесняется подробностей, натуралистических деталей, нецензурной лексики, если того требует текст и ее видение создаваемого литературного мира. В этом смысле, повесть «Время ночь» является чистейшим образчиком классической прозы Петрушевской, и если вы хотите познакомиться с ее творчеством, но не знаете, с чего начать, стоит выбрать именно ее: через десять страниц текста вы будете точно знать, стоит ли вам продолжить чтение или нет.
Пересказывать сюжет, как это часто бывает с ее произведениями, не имеет никакого смысла: канва в данном случае далеко не самое важное. Перед нами - разрозненные дневниковые записи поэтессы Анны Андрияновой, которая рассказывает о своих жизненных перипетиях, и из этих записей вырастает эпическое - и ужасное - полотно несбывшейся, разрушенной человеческой жизни. Читая ее мемуары, мы узнаем, как она бесконечно враждовала со своей матерью, которая ее не понимала, и как потом сама притесняла своих детей, а после, неожиданно, прикипела душой к внуку, называя его «сироткой». Галерея страшных образов вызывает у многих читателей шок и отторжение, однако главное суметь превозмочь себя, и не отвернуться от них, а пожалеть: умение сострадать вопрект, как известно, ключевой навык для чтения русской литературы.
Только из печати:
Гузель Яхина, «Дети мои»

Кажется, слышали даже люди, далекие от мира современной литературы: ее первый роман «Зулейха открывает глаза» стал сенсацией в отечественной культуре, и редким примером талантливого интеллектуального бестселлера. Естественно, все с особым трепетом ждали выхода ее второй книги, романа «Дети мои», который появился на полках магазинов совсем недавно.
История о жизни Якоба Баха, российского немца, живущего в Поволжье и воспитывающего единственную дочь, правильнее всего будет отнести к магическому реализму: с одной стороны, в ней много реальных подробностей быта поволжских немцев, с другой - повсеместно присутствует мистика и «потусторонность». Так, например, Якоб пишет причудливые сказки, которые то и дело воплощаются в жизни, и далеко не всегда приводят к хорошим последствиям.
В отличие от первого романа, книга написана куда более витиеватым и сложным языком, чего совсем не было в «Зулейхе…». Мнения критиков разделились на два лагеря: одни уверены, что книга ничуть не уступает дебюту, а другие упрекают Гузель Яхину за чрезмерное внимание к форме в ущерб содержанию: не будем вставать ни на чью сторону в споре, а лучше посоветуем самим прочесть роман - ближайшие месяцы только его и будут обсуждать все поклонники отечественной литераторы.
Если еще не читали:
Алексей Сальников, «Петровы в гриппе и вокруг него»

Вряд ли Алексей Сальников мог предположить, что его роман вызовет столь крупный резонанс в мире отечественной литературы, и о нем будут спорить критики первой величины, а решатся поставить спектакль по мотивам нашумевшего произведения. Удивительный текст, сюжет которого практически невозможно пересказать - главный герой произведения заболевает гриппом, с чего начинается череда его абсурдных приключений - завораживает языком, которым он написан. Самобытный и яркий слог, где каждое слово как будто заново обретает свое значение, увлекает вглубь истории, и не выпускает обратно: столь колоритным языком могли похвастаться разве что Андрей Платонов и Николай Гоголь.
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Том 150, кн. 6 Гуманитарные науки 2008
УДК 82.0:801.6
О «СЕНТИМЕНТАЛЬНОМ НАТУРАЛИЗМЕ»
В ПРОЗЕ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ
Т. Г. Прохорова Аннотация
В статье исследуется соотношение натуралистического и сентименталистского дискурсов в прозе Л. Петрушевской. Основным материалом анализа является повесть «Время ночь». Выясняются причины возникновения и формы проявления так называемого «сентиментального натурализма» в прозе писательницы.
Ключевые слова: натуралистический дискурс, сентименталистский дискурс, трагедия, пародия.
Когда в критике или в читательской среде заходит речь о творчестве Л. Петрушевской, обычно говорят, что в поле ее зрения в основном оказывается «больной», ущербный мир, для изображения которого используются приемы натурализма. Но в прозе и в пьесах Петрушевской натуралистический дискурс, как правило, тесно переплетается с сентименталистским. Писательница не раз утверждала, что одним из важных импульсов, побуждающих ее к творчеству, является жалость. Уже по поводу ранних своих рассказов Л. Петрушевская говорила, что ей было «безумно жалко своих героев», и добавляла: «Чаще всего я и писала от жалости» . Но тогда возникает вопрос: почему же в ее произведениях мы так часто встречаем одновременно с чувствительностью, со слезами жалости патологическую жестокость, грубый физиологизм образов?
Надо сказать, что сама проблема взаимосвязи сентиментализма и натурализма отнюдь не нова. Термин «сентиментальный натурализм» принадлежит еще критику Х1Х века Аполлону Григорьеву. Говоря о своеобразии творчества Гоголя, он отметил двойственность позиции писателя, который «взглянул оком аналитика на действительность... и, кончая свою картину, вынужден был воскликнуть: «Скучно на этом свете, господа». С этой минуты он уже взял в руки анатомический нож, с этой минуты обильно потекли уже «сквозь зримый миру смех незримые слезы» . Но в первую очередь термин «сентиментальный натурализм» критик применял по отношению к раннему творчеству Ф.М. Достоевского . Идея А. Григорьева получила развитие в ХХ в. Так, В.В. Виноградов в своих работах 1920-х годов писал о «школе сентиментального натурализма», вождем которой назвал Ф.М. Достоевского. Идеи В.В. Виноградова развил М.М. Бахтин. В заметках «Проблемы сентиментализма» ученый утверждал, что «натуральная школа» возникла как «разновидность русского сентиментализма» . Однако интерес М.М. Бахтина к сентиментализму и его взаимо-
действию с натурализмом был связан не только с натуральной школой и даже не только с творчеством Достоевского, но также с проблемой карнавальности, с темой «внутреннего человека и интимных связей между внутренними людьми». Эти проблемы актуальны и для современной литературы.
М. Эпштейн, давая прогноз развития нашей литературы в ХХ1 в., утверждал: «Чувствительность ХХ1 века не будет прямым повторением чувствительности ХУШ. Она не будет разделять мир на трогательное и ужасное, милое и отвратительное. Она вберет в себя множество противочувствий» .
Н. Лейдерман и М. Липовецкий проследили, как формируется «неосентиментализм» в современной литературе. Они обратили внимание на то, что в 1990-е годы «происходит важная трансформация чернухи»: «телесность создает почву для нео-сентименталистского течения». Причем, по мнению ученых, это особенно наглядно проявляется в «женской прозе» . Заново открывая «“маленького человека”, эта литература окружает его состраданием и жалостью, но сам герой сентиментального натурализма еще не готов к самосознанию, он целиком замкнут в эмоционально-физиологической сфере» . Хотя в поле зрения Н. Лейдермана и М. Липовецкого находится достаточно широкий круг авторов, из него почему-то выпало имя Л. Петрушевской, которое должно было бы занять центральное место в этом ряду и помочь скорректировать представление о так называемом сентиментальном натурализме.
Исследователь современной прозы Т.Н. Маркова справедливо заметила, что для Л. Петрушевской «парадоксальность... - это самая естественная и органическая форма восприятия и изображения» . Данное наблюдение созвучно суждениям многих других критиков (Л. Панн, О. Дарка, Е. Гощило), которые указывают на способность писательницы одновременно видеть чистоту и грязь, боль и наслаждение, жизнь и смерть. Именно в таком оксюморон-ном варианте и осуществляется в прозе Петрушевской взаимодействие натуралистического и сентименталистского дискурсов.
Продемонстрируем это на конкретном примере. Обратимся к одному из самых известных ее произведений - к повести «Время ночь», которая фактически содержит в себе основные мотивы творчества Л. Петрушевской. Она была опубликована еще в самом начале 1990-х годов, и тогда многих шокировало именно изображение «сгущенного до клубящегося мрака убогого быта».
Повесть «Время ночь» написана в форме «записок на краю стола», которые принадлежат главной героине. Напомним, что для натурализма характерны документальность и фактографичность, стремление зафиксировать «естественность» языка. В прологе к повести «Время ночь» сообщается, как автор получила эти «записки».
Извините за беспокойство, но тут после мамы, - она помолчала, - после мамы остались рукописи. Я думала, может, вы прочтете. Она была поэт. Конечно, я понимаю, вы заняты. Много работы? Понимаю. Ну, тогда извините.
Через две недели пришла в конверте рукопись, пыльная папка со множеством исписанных листов, школьных тетрадей, даже бланков телеграмм. Подзаголовок «Записки на краю стола». Ни обратного адреса, ни фамилии» .
Таким образом, в повести «Время ночь» создается иллюзия, что автор выступает лишь в роли издателя. Правда, при внешней естественности, кажущейся спонтанности записей композиция повести достаточно сложна: записки матери включают дневник ее дочери, а он, в свою очередь, включает записанный дочерью разговор-перебранку матери и бабушки, наконец, в записки матери, помимо дневника дочери, включен еще «как бы» дневник - это текст, написанный матерью от лица дочери.
О связи с натурализмом в повести «Время ночь» говорят слова-сигналы, возникающие буквально на первых страницах: во-первых, дважды упоминается имя Чарльза Дарвина. При своем возникновении натурализм был идеологически связан с трудами целого ряда ученых, в том числе и с «Происхождением видов путем естественного отбора» Чарльза Дарвина. В повести Л. Петрушев-ской имя ученого сигнализирует о значимости в данном произведении темы борьбы за выживание. Правда, реализуется она здесь прежде всего на бытовом уровне. В начале своих «записок» главная героиня Анна Андриановна рассказывает, что ей частенько приходится со своим любимым внуком Тимой ходить в гости без приглашения. Для нее это способ подкормить Тимочку, которого она называет «дитя голода». С Чарльзом Дарвином Анна Андриановна вначале сравнила зятя своей давней приятельницы Маши: «Хорошее мужское лицо, что-то от Чарльза Дарвина, но не в такой момент. Что-то низменное в нем проявлено, что-то презренное» . Такая неодобрительная характеристика вызвана тем, что он «имел нечто против Тимы», а его собственный сын Дима «ему вообще надоел как собака», так как каждый вечер требовал переключить телевизор на передачу «Спокойной ночи, малыши», и по этому поводу у них с отцом «происходила борьба». Тут же Анна Андриановна по ассоциации вспоминает другую историю, когда она с внуком пришла к «очень далеким знакомым» разузнать о своей дочери Алене, и, едва их усадили за стол и налили борща, «из-под кровати выметывается сука овчарки и кусает Тиму за локоть. Тима дико орет с полным мяса ртом... Отец семейства, тоже чем-то отдаленно напоминающий Чарльза Дарвина, вываливается из-за стола с криком и угрозами, конечно, делая вид, что в адрес собаки» . После этого Анна Андриановна заключает: «Все, больше нам сюда дороги нет».
Эти эпизоды вполне можно истолковать в духе дарвиновской теории «естественного отбора», причем и в том и в другом случаях явно выражен женский, точнее, материнский взгляд на вещи. Существование героини - непре-кращающаяся битва за выживание, за спасение детей. Мужчины же выступают как противники в этой борьбе, поэтому имя Чарльза Дарвина в данном контексте воспринимается как знак враждебности, опасности.
Помимо Дарвина в повести встречаются и другие слова-сигналы, хранящие память о натурализме. Это прежде всего два образа: «западня» и «голод». Первый из них адресует читателя к Э. Золя как автору романа «Западня» и одному из теоретиков французского натурализма. С помощью этого образа в повести «Время ночь» дается следующая характеристика жестокого закона существования:
«Все висело в воздухе, как меч, вся наша жизнь, готовая обрушиться. Западня захлопывалась, как она захлопывается за нами ежедневно, но иногда еще
сверху падало бревно, и в наступившей тишине все расползались, раздавленные...» .
Второе ключевое слово - «голод» - тоже является реминисцентным и заставляет вспомнить название знаменитого романа К. Гамсуна «Голод» - о полной лишений жизни начинающего писателя, которого муки голода, усугублявшиеся муками гордости, привели на грань безумия. Заметим, что героиня повести «Время ночь» тоже считает себя писательницей и она тоже человек с оскорбленным самолюбием. «Мы не нищие!» - гордо заявляет она. Кроме того, в произведении Л. Петрушевской, как и у Гамсуна, весьма значима тема безумия. Но с мотивом голода она связана совершенно иначе: если у Гамсуна - голод реальный, то в повести «Время ночь» скорее надуманный. Как позже выясняется, у Анны Андриановны лежит на сберегательной книжке немалая сумма денег, так что в прямом смысле голодать ей и ее внуку не приходится. Тем не менее мотив голода в повести звучит весьма настойчиво, так как он связан с проявлением своеобразной мании героини.
Встречаются здесь и отсылки к русской «натуральной школе», в частности к Гоголю. Достаточно вспомнить знаменитую цитату «Скучно жить на этом свете, господа» , которая звучит в дневнике дочери Анны Андриановны. Эти слова в контексте творчества Петрушевской воспринимаются как приговор тому миру, в котором вынуждены существовать ее герои.
Хотя в «записках на краю стола» выражена прежде всего «мысль семейная», речь идет о взаимоотношениях героини с детьми, внуками и с собственной матерью, но отношения эти носят болезненно-невротический характер. Сами герои называют жизнь, которую они ведут, скотской. Так, Алена, дочь Анны Андриановны, вводя брата, только что вернувшегося из тюрьмы, в курс домашних дел, произносит: «Ты же знаешь это наше вечное скотство» . Оно, действительно, обнаруживается во всем и проявляется даже в самые трепетные, поэтические моменты жизни. Например, Анна Андриановна так представляет в своих записках сцену встречи Алены из роддома после появления на свет ее первенца Тимы:
«Так я и привела свою троицу на закаканное в переносном смысле сиденье такси. Что там было, воды и воды. Подлец (Анна Андриановна называет так своего зятя. - Т.П.) вез ребенка на вытянутых руках. <...> В такси жужжала муха, притянутая, видимо, мокрой тряпкой, кровавые дела, что говорить, муха была, видимо, тоже на сносях по весеннему времени. Все это наши грязные дела, грязь, пот, тут же и мухи.» .
При этом Анна Андриановна вполне в духе натурализма все факты, связанные с физиологией, телесными потребностями, трактует как неумолимый закон природы:
«О обманщица природа! О великая! Зачем-то ей нужны эти страдания, этот ужас, кровь, вонь, пот, слизь, судороги, любовь, насилие, боль, бессонные ночи, тяжелый труд, вроде чтобы все было хорошо! Ан нет, и все плохо опять.» .
Но характерно, что, наряду с мотивом «грязи», в повести настойчиво звучит мотив чистоты, точнее гигиены. Анна Андриановна бесконечно, кстати и некстати, убеждает своих взрослых детей в необходимости мыть руки, принимать
душ, чем неизменно вызывает их раздражение. Создается впечатление, что в этих призывах чаще мыться выражается подсознательное стремление героини очиститься, освободиться от той грязи, которая проникла в жизнь каждого из членов этой семьи. Как будто стоит только лишний раз помыться, и все ужасное уйдет. Вот, например, что Анна Андриановна внушает дочери, которая к этому времени живет «на выселках со своей нагульной дочерью от воображаемого сожителя», собирается рожать третьего ребенка и к тому же сообщает матери, что у нее очень низкий гемоглобин, почки отказывают, в моче белок, в связи с чем ее кладут в больницу, а малышку оставить не с кем: «Я тебя сколько раз учила, что надо каждый день соблюдать гигиену. Плохо подмылась, вот и весь белок. <...> Не пори ерунды. Какая больница, ты же с малым ребенком. Какая может быть больница. Во-первых, сходи подмойся наконец и сдай анализ как следует .
Во время разговора с Аленой Анне Андриановне хочется только одного -чтобы все страшное, что происходит с ней, вдруг разрешилось самым простым и примитивным образом или просто исчезло. Характерно в связи с этим, какой совет она дает дочери: «Прячься от них, и насильно никто не положит. Ничего страшного» .
Сама она тоже пытается спрятаться, но при этом Анна Андриановна сохраняет способность анализировать происходящее и ясно представляет его возможные последствия. Так, после того как разговор с дочерью закончился, она дает ему вполне трезвую оценку: «Ведь наш разговор был не о белке и не о моче, наш разговор был такой: мама, помоги, взвали на себя еще одну ношу. Мама, ты всегда меня выручала, выручи. - Но дочь, я не в силах любить еще одно существо, это измена малышу, он и так зверенышем смотрел на новую сестру. - Мама, что делать? - Ничего, я тебе ничем помочь не могу, я тебе все отдала.» .
Исследователи отмечают, что в «“классическом” натурализме характер, как категория социальная, редуцируется, сводится к темпераменту, наследственному фактору» . Под «темпераментом» понимается именно унаследованный психический склад, тесно связанный с физиологией, с жизнью тела. В результате наследственность становится материалистической подменой рока.
В повести «Время ночь» актуализируется именно эта примета натурализма, что во многом определяет тот жизненный круг, который проходят герои. Критики сразу обратили внимание на то, что судьба бабушки Симы, матери (Анны Андриановны) и дочери (Алены) повторяется вплоть до мелочей. Многочисленные любовные романы каждой из них неизменно заканчиваются плачевно: они рожают вне брака детей, их оставляют мужья, и в итоге они остаются одинокими и глубоко несчастными. При этом сами женщины не отдают себе отчета в том, что каждая из них повторяет жизненный путь своей матери.
И все же чувство, объединяющее мать и дочь, - это любовь-ненависть, и оно требует для выражения не один «язык», а сразу два. Вот почему, наряду с натуралистическим дискурсом, в прозе Петрушевской так важен сентимента-листский.
Анне Андриановне из повести «Время ночь» присуща экзальтированная чувствительность, что, естественно, отражается на ее манере воспринимать ок-
ружающее, изъясняться. Неудивительно, что слова «плач», «слезы» принадлежат здесь к числу наиболее частотных. Нередко на одной странице, а иногда и в одном предложении, они встречаются по несколько раз. Причем плачут все: мужчины, женщины, дети. Отличие заключается лишь в том, по какому поводу и как плачут герои: «Тима дико орет» , «Тимочка завыл тонким голосом, как кутенок» , «я опять начала плакать в горячке» , «я тихо вытирала слезы» , «буря со слезами Алены» , «сейчас скатятся эти слезы, нищие слезы» , «сдобрено горькими слезами» , «он плакал на коленях» , «он стыдится своих слез» и т. д. и т. п.
Речь Анны Андриановны изобилует эмоциональными всплесками, контрастными сочетаниями ужаса и восторга. В тексте это проявляется в обилии восклицательных предложений, риторических вопросов - словом, в разнообразных средствах, способствующих достижению эффекта мелодраматичности, пафосности речи.
Вот как, к примеру, Анна Андриановна говорит о себе: «И опять я спасла ребенка! Я все время всех спасаю! Я одна во всем городе в нашем микрорайоне слушаю по ночам, не закричит ли кто!» . Или: «Женщина слаба и нерешительна, когда дело касается ее лично, но она зверь, когда речь идет о детях!» . Или еще один пример: «Я же безумно ее любила! Безумно любила Андрюшу! Бесконечно!» .
В речи героини, в которой ярко выражена сентиментально-патетическая стихия, часто обыгрываются классические сентименталистские штампы. Известно, что сентиментализму присущи: сострадание к несчастным, возвышение образов матери и ребенка, воспевание скромной жизни в кругу семьи, установка на изображение мелочей жизни. В «записках» Анны Андриановны мы можем все это встретить, но, естественно, в специфическом деформированном виде.
Глядя на своих взрослых детей, Анна Андриановна часто вспоминает, какими они были детьми и как любили мать: «Моя красавица, которой я любовалась в пеленках, каждый пальчик которой я перемыла, перецеловала. Я умилялась ее кудряшкам (куда что подевалось), ее огромным, ясным, светленьким, как незабудки, глазкам, которые излучали добро, невинность, ласку - все для меня. О их детство! Мое блаженство, моя любовь к этим двум птенчикам.» .
Поскольку Анна Андриановна считает себя поэтом, она и в стихах выражает то чувство материнского умиления, которое испытывала, глядя на своих спящих детей: «Белое пламя волос светит на белой подушке, Дышит работает нос, Спрятаны глазки и ушки» .
Даже когда дети стали взрослыми, когда отношения между ними и матерью достигли предела вражды, непонимания, Анна Андриановна не переставала их любить. «Любовь, любовь и еще раз любовь и жалость к нему руководили мною, когда он вышел из колонии» , - говорит она о своем чувстве к сыну.
С удвоенной силой эта любовь проявляется по отношению к внуку, которого Анна Андриановна просто обожает. Он для нее «святой младенец», «ангел», смысл ее жизни. Когда дети отдалились от Анны Андриановны, тихое семейное счастье стало возможно только рядом с ним. Вот, например, как героиня в
своих «записках на краю стола» представляет семейную идиллию - празднование Нового года вдвоем с внуком: «И на Новый год мы обвесили наш еловый букет сверху донизу... И ненадолго я зажгла гирлянду, и домик у нас сверкал, и мы с Тимой водили хоровод. и я тихо вытирала слезы» .
Сентименталисты считали предметом искусства прекрасные, поэтические мгновения жизни. Они заостряли внимание на необходимости изображать не сущее, а должное, «создавать мир поэтической мечты». Анна Андриановна, словно следуя этому закону, вспоминает те краткие мгновения, когда они были с Ненаглядным вдвоем и ничто не могло нарушить тихой радости этого праздника, даже то, что накануне Алена забрала коробку с елочными украшениями.
Известно, что сентименталисты видели назначение искусства в нравственном облагораживании человека. Они считали, что оно не должно чуждаться наставительного тона, писатель должен показывать, как следует вести себя человеку, какими моральными нормами ему следует руководствоваться. Он учит видеть истинное счастье в честном труде, в согласии с самим собой, в скромной жизни в кругу семьи. Можно считать, что и эта установка сентиментализма в пародийно-игровой форме воплотилась в «записках» Анны Андриановны. Правда, «нравственное облагораживание» выражается у нее в основном в виде попреков в адрес дочери и сына, но цель, которую она ставит при этом, - наставить на путь истинный. Например, на Новый год вернувшемуся из тюрьмы сыну Анна Андриановна приготовила в подарок брошюру «Правила хорошего тона». Предварительно поработав «над этим текстом», она «жирно подчеркнула некоторые положения, так называемое поведение в быту». Героиня поучает не только своих детей, но даже незнакомых людей. Так, одному пассажиру в трамвае она весьма эмоционально внушала, что он не имеет права целовать в губы свою маленькую дочь, потому что такие действия являются развратными и формируют в ребенке патологические наклонности. Анна Андриановна определяет свою задачу в следующей пафосной декларации: «Нести просвещение, юридическое просвещение в эту темную гущу, в эту толпу!» .
Сентименталистский и натуралистический дискурсы у Петрушевской не просто сосуществуют, но взаимодействуют друг с другом, образуя сложное, противоречивое единство. Подобно тому, как два противоположных чувства -любовь и ненависть - присутствуют в одном существе, так же контрастно сопрягаются и два дискурса - сентименталистский и натуралистический. Вот героиня объясняется в любви своему Ненаглядному, внуку Тиме: «Я плотски люблю его, страстно. Наслаждение держать в своей руке его тонкую, невесомую ручку, видеть его синие глазки с такими ресницами, что тень от них, как писала моя любимая писательница, лежит на щеках - и где попало, добавлю я. О веера! Родители вообще, а бабки с дедами в частности, любят маленьких детей плотской любовью, заменяющей им все. <...> Так назначено природой -любить. Отпущено любить, и любовь простерла свои крылья и над тем, кому не положено, над стариками. Грейтесь!» .
В приведенном фрагменте особенно заметно, как сентименталистский дискурс, отражающий «поэтические мгновения прекрасного», вмещает в себя натуралистическую тему зова плоти, веления природы, причем в данном случае речь идет практически о том, что лежит за пределами нормы, - о плотской любви
бабушки к внуку. Подобных примеров, когда происходит соединение, казалось бы, несоединимого, у Петрушевской можно встретить великое множество.
Попробуем теперь дать ответ на вопрос, который прозвучал в начале статьи: почему оказывается возможным сочетание низменного и нежно-чувствительного, патетического и плотски грубого?
Во-первых, еще раз напомним утверждение М. Эпштейна по поводу характера чувствительности в неосентиментализме ХХ1 века: «Она не будет разделять мир на трогательное и ужасное, милое и отвратительное. Она вберет в себя множество противочувствий» . В данном случае у Петрушевской мы наблюдаем именно такое соединение «противочувствий». Опыт постмодернизма с его равнодопустимостью многих истин и совместимостью всех «языков» научил нас не удивляться этому.
Второй ответ связан с психологическим феноменом любви-ненависти, с которым мы обычно встречаемся у Петрушевской. Объяснение этому явлению можно найти у З. Фрейда. В работе «Психология масс и анализ человеческого “Я”» он пишет, что «каждая интимная эмоциональная связь между двумя лицами, имеющая большую или меньшую длительность (брак, дружба, родительское или детское чувство), оставляет осадок противоположных враждебных чувств, упраздняющийся лишь путем вытеснения» . Амбивалентность, присущую интимной эмоциональной связи, З. Фрейд объясняет через явление идентификации, которая известна в психоанализе «как самое раннее проявление эмоциональной привязанности к другому человеку» . «Идентификация амбивалентна с самого начала, она может быть выражением нежности, равно как и желания устранить отца» или мать - словом, того, кого мы считаем соперником. Иллюстрируя эту мысль, З. Фрейд приводит аналогию с людоедом, который пожирает как своих врагов, так и тех, кого он любит .
С таким психологическим феноменом мы встречаемся и в произведениях Петрушевской, в том числе и в повести «Время ночь». Здесь вновь уместно вспомнить, что судьбы ее героев фактически повторяются из поколения в поколение. Следовательно, бессознательно идентифицируя себя со своей матерью, каждая из героинь испытывает при этом двойственное чувство: враждебности и любви, привязанности и стремления «сожрать» родного человека. Каждая из них видит в другой и врага, и объект любви. Эта тенденция проявляет себя во многих произведениях Петрушевской. В повести «Время ночь» показательны следующие признания Анны Андриановны по поводу тех отношений, которые сложились у нее, тогда еще замужней женщины, с ее собственной матерью: «. моя мать сама хотела быть объектом любви своей дочери, то есть меня, чтобы я только ее любила, объектом любви и доверия, это мать хотела быть всей семьей для меня. <...> Моя мама, пока не случилось все ужасное, именно так выжила из дому несчастного моего мужа.» .
Сама Анна Андриановна в точности повторяет модель поведения своей матери, но не замечает этого. Она тоже хотела быть единственным объектом любви своих детей и внука. Характерна следующая сентенция, в которой Анна Андриановна мысленно обращается к своей дочери, внушая ей освободиться от мужа: «Пощади, девочка моя, гони его в три шеи, мы сами! Я тебе во всем пойду навстречу, зачем он нам? Зачем??» .
В результате Анне Андриановне все же удается выжить из квартиры зятя, она сделала все возможное, чтобы он оставил ее дочь. Показательно в связи с этим, что сентименталистский дискурс проявляется главным образом в тех высказываниях героини, когда она представляет детей своей собственностью. Так, например, Анна Андриановна смотрит на свою взрослую дочь и видит в ней ребенка, каким она была когда-то: «Я умилялась ее кудряшкам (куда что подевалось), ее огромным, ясным, светленьким, как незабудки, глазкам, которые излучали добро, невинность, ласку - все для меня».
Это «все для меня» и объясняет характер отношений между матерью и детьми. Интересно в связи с этим, какое значение приобретает тема ночи: «Ночами, только ночами я испытывала счастье материнства. Укроешь, подоткнешь, встанешь на колени. Им не нужна была моя любовь. Вернее, без меня они бы сдохли, но при этом лично я им мешала» .
Таким образом, «ночь» для Анны Андриановны - возможность остаться наедине с детьми и испытать счастье материнства, потому что ночью дети не могут выйти из ее «круга», они принадлежат ей. Но, как только дети нарушают границу материнского пространства, выходя за его пределы, они сразу становятся чужими, соответственно, возникает враждебность по отношению к ним. В своей дочери - матери троих детей - Анна Андриановна видит «грудастую крикливую тетку», «самку», какую-то «низенькую бабенку», покушающуюся на ее территорию. Поэтому она захлопывает перед Аленой дверь, не хочет впускать ее в квартиру, восклицая при этом: «У нас денег нет вас принимать тут! Нету!!!» . Анна Андриановна боится, что дочь отнимет у нее Тиму, который пока, как она считает, принадлежит ей.
Герои не могут установить необходимую для нормального существования психологическую дистанцию, и ситуация обостряется до предела. Они яростно спорят по поводу квадратных метров, брат и сестра ревнуют друг друга, ссорятся по любому поводу и между собой, и с матерью. Даже если герои на какое-то время покидают стены своего дома, они попадают в обстановку еще большей тесноты, скученности, а следовательно, враждебности, жестокости. Никто из них не может обрести своего частного пространства. И все же, стремясь к этому, они отгораживаются друг от друга, запираются в своих комнатах, навешивают замки на двери, и одновременно наглухо запираются их души. В конце концов Анна Андриановна остается совершенно одна, все близкие ее покидают. Но одна она быть опять-таки не в состоянии, так как привыкла существовать для других, поэтому единственное, что ей остается, - уйти из жизни.
Итак, причину трагедии, которая обычно разыгрывается в произведениях Петрушевской, можно объяснить следующим образом: герои существуют в пространстве «своего круга», но в результате их отчужденности друг от друга возникает дистанция, которую они пытаются преодолеть двумя способами: либо по «людоедскому» сценарию, то есть пытаясь ревниво присвоить себе тех, кого любят, либо выстраивая новую стену и таким образом усугубляя враждебность. Для выражения этих двух психологических моделей Петрушевской и понадобились две разные речевые стратегии: сочетание натуралистического и сентименталистского дискурсов.
T.G. Prokhorova. On “Sentimental Naturalism” in the Works of L. Petrushevskaya.
The article deals with the combination of naturalistic and sentimental discourses in the prose of L. Petrushevskaya. The essay is based on the novel “The Time is Night”. The author addresses the reasons and the forms in which sentimental naturalism demonstrates itself.
Key words: naturalistic discourse, sentimentalist discourse, tragedy, parody.
Литература
1. Петрушевская Л. Маленькая девочка из «Метрополя». - СПб.: Изд-во Амфора, ТИД Амфора, 2006. - 464 с.
2. Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. Т. 2. - М.: Худож. лит., 1990. - 227с.
3. БахтинМ.М. Проблема сентиментализма // Бахтин М.М. Собр. соч. в 7 т. - М.: Рус. словари, 1997. - Т. 5. - С. 304-305.
4. ЭпштейнМ.Н. Постмодерн в русской литературе. - М.: Высш. шк., 2005. - 495 с.
5. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: в 3 кн. Кн. 3: В конце века (1986-1900-е годы). - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 160 с.
6. Маркова Т.Н. Современная проза: конструкция и смысл (В. Маканин, Л. Петрушевская, В. Пелевин). - М.: МГОУ, 2003. - 268 с.
7. Петрушевская Л. Дом девушек: рассказы и повести. - М.: Вагриус, 1998. - 448 с.
8. Миловидов В.А. Натурализм: метод, поэтика, стиль. - Тверь, Тверск. гос. ун-т, 1993. -72 с.
9. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я» // Преступная толпа. - М.: Ин-т психологии РАН, 1999. - С. 119-194.
Поступила в редакцию 24.12.07
Прохорова Татьяна Геннадьевна - кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы Казанского государственного университета.
E-mail: [email protected]
К прозе «жестокого реализма» относится повесть «Время ночь» Людмилы Петрушевской.
Произведение имеет рамочную композицию и открывается кратким предисловием, из которого мы узнаем историю появления основного текста повести. Сообщается, что автору позвонила женщина с просьбой прочитать рукопись своей матери. Так перед нами появляется дневник поэтессы Анны Андриановны, раскрывающий трагедию жизни многодетной семьи.
В повести «Время ночь» мы обнаруживаем практически все основные темы и мотивы, звучащие в творчестве Петрушевской: одиночество, сумасшествие, болезнь, страдание, старость, смерть.
При этом используется прием гиперболизации: изображается крайняя степень человеческих страданий, ужасы жизни. «Шоковой проза» - именно так определяют творчество Петрушевской многие критики.
Каков мир персонажей повести? Это замкнутый круг тяжелых жизненных обстоятельств: тесная квартира, в которой живут три поколения людей, неустроенный быт, социальная незащищенность, невозможность получения достоверной информации.
Петрушевская показывает бытовые условия и ситуации, на которых замкнуто существование героев, и своеобразно рисует признаки этих ситуаций: от пустых тарелок, заштопанного белья, «полбуханки черняшки и супа из минтая» до абортов, разводов, брошенных детей, сумасшедших старух.
При этом можно заметить, что текст рукописи Анны Андриановны крайне физиологичен, в нем широко используется просторечие («цапать», «шарить», «тыкать», «шнырять», «рехнуться», «урвать» и т. п.) и даже бранная лексика (диалоги поэтессы и ее дочери, реплики Андрея).
Мне показалось, что в мире героев повести отсутствует представление о реальном времени. Отсюда, как мне думается, возникает одно из значений названия этого произведения: ночью время не ощущается, как бы замирает. Не ощущают времени и Анна Андриановна, и Алена, и Андрей, которые живут сиюминутными проблемами, повседневной рутиной. С другой стороны, ночь - время интенсивной духовной жизни, занятое размышлениями, воспоминаниями, самоанализом. Ночью пишутся стихи, ведутся дневники, как это и делает рассказчица: «ночью можно остаться наедине с бумагой и карандашом».
С моей точки зрения, «время ночь» - это еще и постоянное ощущение всеми персонажами повести тоски, подавленности, душевной тяжести, предчувствие новых проблем и трагедий: «Все висело в воздухе как меч, вся наша жизнь, готовая обрушиться». Кроме того, создается впечатление, что герои постоянно блуждают в темноте, двигаются на ощупь.
Таким образом, Петрушевская изображает мир, в котором человек не осознает ценности своей жизни и жизни других людей, даже самых близких. В этом произведении мы наблюдаем страшное состояние разъединенности, отчужденности близких людей: дети не нужны родителям, и наоборот. Так, Анна Андриановна пишет о своих детях: «Им не нужна была моя любовь. Вернее, без меня бы они сдохли, но при этом, лично я им мешала».
Такое состояние души вселяет мысли о безысходности, конце существования. «Жизнь моя кончена», - несколько раз заявляет Анна Андриановна. Подобные размышления бесконечно варьируются и становятся лейтмотивом всего повествования. Кто виноват в этих бесконечных страданиях? Анна Андриановна находит самое простое объяснение: «О, обманщица природа! О великая! Зачем-то ей нужны эти страдания, этот ужас, кровь, вонь, пот, слизь, судороги, любовь, насилие, боль, бессонные ночи, тяжелый труд, вроде чтобы все было хорошо! Ан нет, и все плохо опять».
Можно заметить, что и способ изложения событий в этом произведении типичен для художественной манеры Петрушевской. Так, в тексте рукописи Анны Андриановны часто отсутствуют причинно-следственные связи, логические объяснения поступков персонажей. Мне кажется, что делается это намеренно - с целью усиления передачи хаоса происходящего.
Этой же цели служит и неразработанность характеров повести. Например, мы не знаем, какие стихи пишет Анна Андриановна. Сложно понять, кого действительно любит Алена и почему она бросила своего сына, но сама воспитывает двух других детей. Не совсем ясно, за что сидит в тюрьме ее брат Андрей.
Одновременно можно заметить, что определенный схематизм персонажей делает их обобщенными типами, типичными образами. Перед нами возникает, например, образ «невинной жертвы», в котором оказываются практически все герои повести.
Так, Андрей - жертва своей правдивой, но ранимой натуры. Тимофей - жертва семейных распрей, «дитя голода», «замкнутый ребенок до слез». Алена - жертва оставивших ее неверных мужчин. Сама Анна Андриановна - жертва бытовых обстоятельств и своих жизненных взглядов. надо в дурдом!»; «Да к тебе надо врача со шприцом!»
Тема болезни и сумасшествия типична для прозы Петрушевской. В повести «Время ночь» эта тема достигает предельного развития. Болезнь - естественное состояние героев. На каждом из них лежит печать не только духовного страдания, но и физического вырождения. Шизофрения - родовое проклятие всей семьи. Этой болезнью страдают бабушка маленького Тимофея по отцовской линии и мать Анны Андриановны. На учете в диспансере состоит Алена.
Однако я думаю, что мотив болезни приобретает здесь более философское, расширительное значение: весь мир «болен» духовно, но люди не видят и не понимают этого. Рассказчица справедливо предполагает, что «там, за пределами больницы, гораздо больше сумасшедших».
Алексей Куралех
Повесть «Время ночь» и цикл рассказов «Песни восточных славян» как бы два противоположных начала в творчестве Людмилы Петрушевской, два полюса, между которыми балансирует ее художественный мир.
В цикле «Песни восточных славян» перед нами проходит ряд странных историй, «случаев» - темных, страшных, ночных. Как правило, в центре повествования стоит чья-то смерть. Смерть необычная, вызывающая ощущение зыбкости границы между реальным и ирреальным миром, между существованием мертвых и живых.
В начале войны к одной женщине приходит похоронка на мужа-летчика. Вскоре после этого у ее дома появляется странный молодой человек, худой, изможденный. Молодой человек оказывается ее мужем, дезертировавшим из армии. Однажды он просит женщину пойти в лес и закопать обмундирование, которое он оставил там, когда уходил из части. Женщина закапывает какие-то обрывки летчицкого комбинезона, лежащие на дне глубокой воронки. После этого муж исчезает. Потом он является женщине во сне и произносит: «Спасибо тебе, что ты меня похоронила» («Случай в Сокольниках»).
А вот - другой случай.
У одного полковника во время войны умирает жена. После кладбища он обнаруживает, что потерял партбилет. Во сне к нему приходит умершая и говорит, что он уронил билет, когда целовал ее в гробу. Пусть он откопает гроб, откроет его и достанет билет, но не снимает покрова с ее лица. Полковник так и делает. Лишь покров с лица жены снимает. На аэродроме к нему подходит какой-то летчик и предлагает доставить в часть. Полковник соглашается. Летчик прилетает в глухой темный лес. На поляне горят костры. Вокруг ходят люди, обгоревшие, со страшными ранами, но чистыми лицами. И женщина, сидящая у костра, произносит: «Зачем же ты посмотрел на меня, зачем поднял покрывало, теперь у тебя отсохнет рука». Полковника находят на кладбище без сознания у могилы жены. Его рука «сильно повреждена и теперь, возможно, отсохнет» («Рука»).
Постепенно из этих необычных, странных сюжетов складывается картина особого художественного мира, особо воспринимаемой жизни. И в этом восприятии есть что-то неуловимо детское. По сути, это отголосок тех «страшных» историй, которые мы не раз слышали и сами рассказывали в школе или в детском саду, где даже смерть - не тайна, а лишь загадка, лишь интересный страшный случай жизни. Чем интереснее сюжет - тем лучше, а чем он страшнее - тем интереснее. Чувство страха при этом оказывается чисто внешним.
Петрушевская прекрасно владеет этим «детским» материалом. В нужный момент мы насторожимся, в нужном месте по спине пройдет легкий холодок, как когда-то в темной комнате пионерлагеря. (Разумеется, это случится, если читатель - не заядлый скептик и принимает условия игры.) Владение жанром настолько виртуозно, что в какой-то момент начинаешь задумываться о сходстве не только манеры повествования ребенка и рассказчика, но и об общности детского мироощущения и мироощущения автора.
В художественном мире этих рассказов отчетливо ощутимо то же «детское» чувство дистанции между событиями и автором. Кажется, что эмоции героев, их характер, судьбы в общем безразличны ему, интересны лишь перипетии отношений персонажей, населяющих рассказы, их совокупления, их смерть,- автор не в жизни, не слит с нею, не ощущает ее как нечто свое, созвучное, кровное, близкое...
Но такой взгляд извне таит серьезную проблему, несет в себе оттенок искусственности. В самом деле, отстраненный взгляд ребенка на мир взрослых естествен, он не нарушает общей гармонии детской внутренней жизни. Ибо у ребенка есть своя, скрытая жизнь, отличная от жизни взрослого. В ней царит гармония, красота, а вся абсурдность и весь ужас внешнего, взрослого мира - не более чем интересная игра, которую в любой момент можно прервать, и конец ее неизбежно будет счастливым. Ребенку незнакомо мучительное чувство тайны жизни - он хранит эту тайну в себе как нечто изначально данное и, лишь повзрослев, забывает ее. Кстати, именно такое восприятие жизни характерно для детских пьес Петрушевской - странных, абсурдных, но несущих в себе естественную гармонию игры.
В отличие от ребенка, взрослый человек лишен счастливой гармонии замкнутой внутренней жизни. Его внешнее бытие и его внутренний мир развиваются по одним я тем же законам. И смерть - не игра, а гибель всерьез. И абсурд - не веселое представление, а мучительное чувство бессмысленности существования. Характерная условность, абсурдность, театральность многих взрослых вещей Петрушевской, как пьес, так и рассказов, оказывается, лишена той естественной легкости и внутренней гармонии, которая присуща ее детским произведениям. Попытка детского отстранения от жизни на взрослом материале, на взрослом чувствовании жизни неизбежно приводит к утрате единства мира, к его надлому, к жесткости. Не детской жесткости игры, где все не взаправду, где все понарошку, а холодной, рассудочной жесткости взрослого человека, сознательно абстрагирующегося от мира и перестающего воспринимать его боль.
Это легко прослеживается в цикле «Песни восточных славян». В рассказе «Новый район» женщина рождает недоношенного ребенка, «и ребеночек, после месяца жизни в инкубаторе, подумаешь, что в нем было, двести пятьдесят граммов, пачка творога, - он умер, его даже не отдали похоронить...». Сравнение ребенка с пачкой творога еще не раз, с завидной настойчивостью повторится в рассказе. Повторится мимоходом, как бы между прочим, как нечто само собой разумеющееся... «У жены открылось молоко, она четыре раза в день ездила в институт сдаиваться, а ее молоком необязательно кормили именно их пачку творога, были и другие, блатные дети...» «Наконец жена Василия все-таки забеременела, очень уж она хотела ребеночка, загладить память о пачке творога...» В этом равнодушном уподоблении человеческого существа пищевому продукту есть что-то грубо разрушающее некие нравственные законы, законы жизни, саму жизнь. И не только жизнь того бытового мира, в котором вращаются герои Петрушевской, но и мир самого рассказа, художественный мир произведения.
Конечно, в искусстве есть неизбежный диссонанс: и порой именно через разлад, через грязь и кровь познается высшее. Искусство словно растягивает жизнь между двумя полюсами напряжения - хаосом и гармонией, и ощущение этих двух точек разом рождает прорыв, именуемый катарсисом. Но «пачка творога» из рассказа Петрушевской - не полюс жизни и крайняя ее точка, ибо это вне жизни, вне художественности. Бытие настолько «растягивается» между двумя полюсами, что наконец неизбежно рвется какая-то нить - в руках остаются лишь обрывки художественной ткани произведения. Разрыв этот неизбежен, идет процесс придумывания все новых и новых «ужасов», жизнь испытывается на прочность, над жизнью ставится эксперимент...
Но вот перед нами повесть «Время ночь». Главная героиня Анна Андриановна, от имени которой ведется повествование, сознательно и упорно рвет зыбкие нити, связующие ее с внешним миром, с окружающими людьми. Вначале уходит ее муж. Затем постепенно распадается оставшаяся семья. В психбольницу отправляется мать, больная, выжившая из ума старуха. Уходит зять, которого Анна Андриановна когда-то насильно женила на своей дочери, затем безжалостно третировала, попрекая куском хлеба, изводя медленно, упорно и бесцельно. К новому мужчине уходит дочь, чтобы в свою очередь быть брошенной. Ни одна встреча между матерью и дочерью не обходится теперь без скандалов и отвратительных сцен. Уходит сын, спившийся, сломленный после тюрьмы человек. Анна Андриановна остается рядом с единственным родным существом - внуком Тимофеем, капризным и избалованным ребенком. Но в конце покинет ее и он.
Героиня останется одна в стенах своей нищей квартиры, наедине со своими мыслями, наедине со своим дневником, наедине с ночью. И упаковка снотворного, взятая у дочери, дает возможность догадываться о ее дальнейшей судьбе.
Вначале может показаться, что в своем неизбежном одиночестве виновна сама Анна Андриановна. С неожиданной резкостью и даже жестокостью она готова подавить любой порыв, любое проявление тепла со стороны своих, близких.. Когда во время очередного возвращения дочь вдруг беспомощно присядет в прихожей и пробормочет: «Как я жила. Мама!» - героиня прервет ее нарочито грубым: «Нечего было рожать, пошла и выскоблила». «Одна минута между нами, одна минута за три последних года», - признается рассказчица, но сама же она разрушит эту мимолетную возможность гармонии и понимания.
Однако постепенно в разобщенности героев мы начинаем ощущать не сколько трагедию отдельного человека, сколько некую фатальную неизбежность мира. Жизнь, окружающая героев, беспросветна во всем: и в большом, и в малом, в сущем и в отдельных подробностях. И одиночество человека в этой жизни, посреди нищего безысходного быта, изначально предопределено. Одинока мать героини, одинока ее дочь, одинок сын Андрей, которого гонит из дома жена. Одинока случайная попутчица героини Ксения - молодящаяся «сказительница», зарабатывающая, как и Анна Андриановна, гроши своими выступлениями перед детьми.
Но самое удивительное, что в этом жутком, беспросветном, забытовленном мире, в этом городе, где забываешь о существовании деревьев и травы, героиня сохранила в душе странную наивность и талант верить людям. Ее обманывает сын, забирая последние деньги, ее обманывает на улице случайный незнакомец, а эта немолодая, искушенная во лжи и обмане женщина, едкая и саркастичная, доверчиво открывается навстречу протянутой руке. И в этом ее движении есть что-то трогательное и беспомощное. Героиня сохраняет неизбывную потребность в душевном тепле, хотя и не может найти его в мире: «Два раза в день душ и подолгу: чужое тепло! тепло ТЭЦ, за неимением лучшего...» Она сохраняет способность и потребность любить, и любовь ее вся выплескивается на внука. В ней живет необычный, в чем-то болезненный, но совершенно искренний пафос спасения.
«Я все время всех спасаю! Я одна во всем городе в нашем микрорайоне слушаю по ночам, не закричит ли кто! Однажды я так услышала летом в три ночи сдавленный крик: „Господи, что же это! Господи, что же это такое!” Женский сдавленный бессильный полукрик. Я тогда (пришел мой час) высунулась в окно и как рявкну торжественно: „Эт-то что происходит?! Я звоню в милицию!”»
Трагическая разобщенность людей в мире Петрушевской оказывается порождена не жестокостью отдельного человека, не бездушием, не холодностью, не атрофией чувств, а его абсолютной, трагической замкнутостью в себе и отстраненностью от жизни. Герои не могут увидеть в чужом одиночестве отголосок своего и приравнять чужую боль к своей, соединить свою жизнь с жизнью другого человека, почувствовав тот общий круг бытия, в котором вращаются слитые в нерасторжимое единство наши судьбы. Жизнь распадается на отдельные осколки и обломки, на отдельные человеческие существования, где каждый - наедине со своей болью и тоской.
Но жизнь главной героини в повести становится одновременно и констатацией, и преодолением этого состояния. Весь ход авторского повествования дает ощущение медленного, трудного вхождения в жизнь, слияния с нею, перехода от чувствования извне, со стороны к чувствованию изнутри.
В повести три центральных женских образа: Анна, Серафима и Алена. Их судьбы зеркальны, их жизни с фатальной неизбежностью повторяют друг друга. Они одиноки, мужчины проходят через их жизнь, оставляя разочарование и горечь, дети все больше отдаляются, и впереди уже маячит беспросветная, холодная старость в окружении чужих людей. В их судьбах повторяются эпизоды, мелькают те же лица, звучат те же фразы. Но героини словно не замечают этого в своей бесконечной вражде.
«Что-то не в порядке с пищей было всегда у членов нашей семьи, нищета тому виной, какие-то счеты, претензии, бабушка укоряла моего мужа в открытую, «все сжирает у детей» и т. д. А я так не делала никогда, разве что меня выводил из себя Шура, действительно дармоед и кровопиец...»
А через много лет так же, наверное, будет упрекать своего зятя Алена, не заметив, быть может, что в гневе повторяет слова своей матери и своей бабки.
Но в какой-то момент что-то неуловимо изменится в ходе повествования, какой-то незримый поворот заставит Анну вдруг явственно ощутить то, что, быть может, она уже давно чувствовала подспудно. Ощутить неостановимый круговорот жизни и увидеть в судьбе своей матери, отправленной в психушку, свою собственную судьбу. Это чувство придет помимо воли и желания, с неизбежностью прозрения.
«Я ввалилась в ее комнату, она сидела бессильно на своем диванчике (теперь он мой). Вешаться собралась? Ты что?! Когда пришли санитары, она молча, дико бросила на меня взгляд, утроенный слезой, вскинула голову и пошла, пошла навек». «Это я теперь сидела, я теперь сидела одна с кровавыми глазами, пришла моя очередь сидеть на этом диванчике. Значит, дочь теперь сюда переедет, и мне тут места не останется и никакой надежды».
Она равна матери, она уже на грани сумасшествия, она тоже способна спалить дом, повеситься, не найти дорогу. Она тоже старуха, «бабуля», как ее называет сестра в психбольнице. А ведь еще недавно героиня словно забывала об этом, с радостью рассказывая, как на улице со спины ее принимали за девушку. И конец жизни ее матери в психлечебнице становится для Анны концом «нашей жизни» и жизни Андрея, сидевшего в такой же, как бабушка, яме с решетками, и жизни Алены. Недаром героиня вдруг подумает о старости своей дочери, о том, как она предъявит ей бабушкины платья, на удивление подходящие и по росту, и по фигуре.
Именно тогда Анна бросится в отчаянном порыве вызволять свою мать из психбольницы. Вначале - как будто против желания, из чувства противоречия дочери. Но затем судьба ее матери в какой-то миг станет и ее судьбой, жизнь матери сольется с ее жизнью - и обреченность матери станет обреченностью ее самой.
Попытка спасти мать безнадежна. Ибо это - попытка остановить время, остановить жизнь. Но после крушения надежд к героине приходит что-то очень важное, и конец повести, обрывающейся на полуслове, лишенный даже последнего знака препинания, оставляет ощущение чего-то понятого, какой-то если не осознанной, то почувствованной вдруг тайны.
«Она их увела, полное разорение. Ни Тимы, ни детей. Куда? Куда-то нашла. Это ее дело. Важно, что живы. Живые ушли от меня. Алена, Тима, Катя, крошечный Николай тоже ушел. Алена, Тима, Катя, Николай, Андрей, Серафима, Анна, простите слезы».
Героиня называет по именам своих родных: дочь, сына, мать. Последней называет себя. Тоже по имени. Все - молодые, старые, дети - приравнены друг к другу; есть лишь имена перед лицом Вечности. Все включены в единый бытийный круг, бесконечный в своем движений, все нераздельно-слиты в этой неостановимой смене лиц и времен...
В повести, как и в цикле «Песни восточных славян», мы найдем немало того, что принято называть «чернухой». В ней не меньше, а быть может; и больше той бытовой грязи, которую Петрушевская столь активно вводит в ткань своих произведений. Но в отличие от рассказов цикла эта грязь и безобразие бытия оказываются как бы пропущены через жизнь, пережиты изнутри, а не механически, походя внедрены в общую сюжетную канву. В результате повествование оказывается лишено искусственности и холодного безразличия; оно становится естественно и художественно органично.
И лишь гармонии (не органики, а гармонии) по-прежнему не ощущается в нем. Гармонии, которая отталкивается от быта, прерывает течение привычной жизни и нащупывает единство и цельность мира в чем-то неземном. Произведения Петрушевской лишены гармонии как отголоска высшего, божественного начала, которое мы ищем в тревоге и суете повседневности. И в новой повести, и в старых рассказах автора нет ожидаемого решающего прорыва, решительного финала, пусть трагического, пусть смертельного, но всё-таки выхода. В конце - не многоточие, открывающее путь в неизведанное, в конце- обрыв, неподвижность, пустота...
У многих рассказов Петрушевской есть одна характерная черта. То ли в самом названий, то ли в начале повествования дается своеобразная заявка на нечто большее и значительное, ожидающее читателя впереди. «Сети и Ловушки», «Темная судьба», «Удар грома», «Элегия», «Бессмертная любовь»... Читатель листает скучноватые страницы, находя в них знакомые по жизни лица, нехитрые сюжеты, банальные бытовые истории. Он ожидает обещанного вначале - возвышенного, масштабного, трагического - и вдруг останавливается перед пустотой конца. Ни сетей, ни ловушек, ни темных судеб, ни бессмертной любви... Все тонет в быте, все поглощается им. Кажется, повествование в прозе Петрушевской словно расползается в разные стороны, расслаивается, двигаясь то в одном, то в другом направлении, без строгого сюжета, без четких, продуманных линий; повествование словно стремится прорвать спекшуюся корку быта, найти щель, вырваться за его пределы, реализовать изначальную заявку на значительность жизни, тайну жизни, скрытую бытом. И почти всегда это не удается. (А если удается - то как-то неорганично, искусственно, с внутренним сопротивлением материала.)
Но в какой-то момент, при чтении очередного, на первый взгляд такого же скучного, засоренного, забытовленного рассказа к читателю приходит иное, новое по тональности ощущение. Быть может, ожидаемого прорыва никогда не бывает?! Быть может, смысл - не в прорыве, а в слиянии с бытом, в погружении в него?! Быть может, тайна не исчезает в быте, не заглушается им, а растворяется в нем как нечто естественное и органичное?!
Рассказ «Элегия» повествует о странной, смешной любви. Его зовут Павел. У нее нет имени, она просто его жена. Куда бы он ни шел, она всюду следовала за ним. Она приходила к нему на работу с детьми, а он кормил их в дешевой казенной столовой. Она продолжала в супружестве свою старую студенческую жизнь, нищую, беззаботную, непутевую. Она была плохой хозяйкой и плохой матерью. Павел был окружен со всех сторон ее утомительной любовью, раздражающей, навязчивой, в чем-то по-детски смешной. Однажды он полез на крышу устанавливать антенну телевизора и сорвался с обледенелого края.
«...И жена Павла с двумя девочками исчезла вон из города, не отвечая ни на чьи приглашения пожить и остаться, и история этой семьи так и осталась незаконченной, осталось неизвестном, чем на самом деле была эта семья и чем все могло на самом деле закончиться, потому что ведь все в свое время думали, что с ними что-нибудь случится, что он от нее уйдет, не выдержав этой великой любви, и он от нее ушел, но не так».
Мы не можем не почувствовать в последних словах какую-то очевидную нарочитость. «Великая любовь» для такой героини - это явно иронично, театрально. Но в свете трагедии финала окажется вдруг, что именно эти, смешные, нелепые отношения, с обедами в казенной столовой, со студенческими вечеринками в нищей квартире есть любовь и в ее подлинном значении, та самая великая, «бессмертная» любовь, по имени которой названа книга рассказов Петрушевской... Герои живут двумя жизнями - внешней бытовой и внутренней бытийной, но эти два начала не просто связаны между собой - они немыслимы друг без друга, едины в своем значении.
Слово Петрушевской приобретает некое двойное звучание, связанное с ее особой, легко узнаваемой манерой письма. Авторское слово как бы маскируется под бытовое сознание, бытовое мышление, оставаясь при этом словом интеллигента. Оно нисходит до уровня банальности, трафарета, напыщенной, возвышенной декламации - и сохраняет свое подлинное, высокое значение.
Восприятие жизни Петрушевской - женское чувствование мира. Именно в мире женщины быт и бытие нераздельны. Разум мужчины, отталкиваясь от прозы жизни, находит свое воплощение и выход в чем-то ином, прозаическая жизнь - не единственная, а быть может, не основная сфера его бытования. И это дает мужчине возможность принять эту жизнь как нечто второстепенное и абстрагироваться от грязи внутри нее. Чувства женщины слишком тесно связаны с реальным миром; она слишком «жизненна». И дисгармония, безысходность быта есть для нее безысходность жизни как таковой. Не в этом ли истоки того гипертрофированного, болезненного потока «чернухи», который обрушивается на читателя со страниц женской прозы? Петрушевская здесь не исключение. Этот поток рожден не приятием, не мазохистским восторгом от грязи жизни, а напротив - отторжением, защитным рефлексом непричастности и отстраненности. Женщина-художник словно выносит себя за скобки этого мира - и все те ужасы, которые происходят и произойдут с героями и с жизнью, уже не касаются ее...
Этот путь избирает Петрушевская в цикле рассказов «Песни восточных славян». Но есть иной путь - мучительного погружения в жизнь, который проходит героиня повести «Время ночь», а вместе с нею и автор, и читатель.
Этот путь несет в себе неизбывную боль. Но чувство боли есть не что иное, как чувство жизни, если есть боль - человек живет, мир существует. Если боли нет, а лишь спокойствие, холодное и безразличное, - уходит жизнь, рушится мир.
Проживание жизни изнутри, в единстве мучительного быта и бытия, сквозь боль, слезы, может быть, и есть движение к высшему, которое мы так жаждем обрести? Чтобы подняться над жизнью, нужно слиться с нею, ощутить значительность и значение обычных вещей и обычной человеческой судьбы.
Проживание мира есть становление мира художественного. И художественность в лучших произведениях Петрушевской становится тем чутким барометром, который улавливает и доказывает подлинность и глубину такого чувствования жизни. Жизни как нераздельного единства быта и бытия.
Ключевые слова: Людмила Петрушевская,«Песни восточных славян»,критика на творчество Людмилы Петрушевской,критика на пьесы Людмилы Петрушевской,анализ творчества Людмилы Петрушевской,скачать критику,скачать анализ,скачать бесплатно,русская литература 20 века